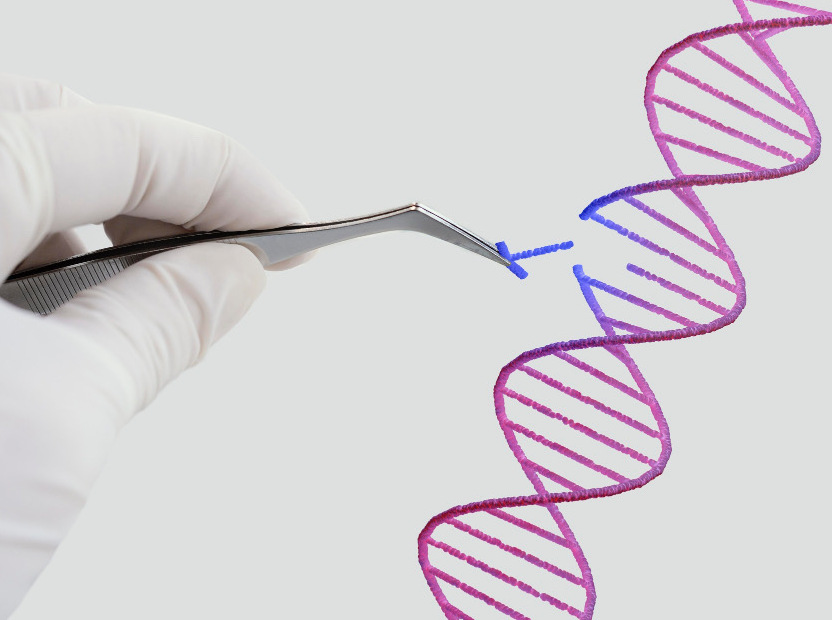Быстрый, точный, сравнительно легкий в применении метод CRISPR-Cas9 сделал генное редактирование более эффективным. В то же время, становится реальностью редактирование фундаментальной наследственности человека, – что размывает многие этические барьеры, воздвигнутые для предотвращения безответственного экспериментирования с нашим геномом
«Этические дебаты о том, что сегодня называют редактированием человеческих генов, продолжаются уже более полувека. И на протяжении почти всего этого времени существовал консенсус касательно моральных границ между редактированием соматических клеток и вмешательством в зародышевую линию генов».
Доктор Джон Г. Эванс, содиректор Института практической этики при Калифорнийском университете, Сан-Диего, США
Профессор Дж. Г. Эванс, известный специалист в области этических аспектов науки, опубликовал в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) эссе, – где с тревогой говорит, в частности, о том, что многие из доселе незыблемых биоэтических принципов и запретных границ стали незаметно «растворяться» на фоне триумфального пришествия CRISPR.
Эванс не одинок в своих тревогах. Растущее число экспертов обращает внимание на то, что моральный запрет, четко разделявший научные исследовании в области редактирования т.н. зародышевой линии от опытов по терапевтическому редактированию соматических клеток, заметно ослабевает в последние годы. (Гены зародышевой линии, – англ. «germline genes», – обеспечивают принадлежность потомства к родительскому биологическому виду и наследование базисных его свойств. Гены, не входящие в зародышевую линию и отвечающие, приближенно говоря, за индивидуальные морфологические черты, называют соматическими. – Прим. Лахта Клиники).
В 2018 году весь мир всколыхнули сообщения из Китая, где Хе Дзяньки с применением CRISPR генетически изменил человеческие эмбрионы, что привело к рождению близнецов по имени Лулу и Нана, – и сделало как никогда актуальными вопросы политики в сфере редактирования зародышевой линии. Как и следовало ожидать, первым делом на Хе Дзяньки обрушилось всеобщее осуждение, проклятия, всевозможные обвинения в «антигуманных экспериментах на людях». Однако его работа имела и другой эффект: стало очевидным, что прежние негласные запреты уже не работают и пора от консенсусных умолчаний переходить к спокойному обсуждению возможностей и конкретных методов регуляции подобных исследований. Политики сменили тон на более мягкий, и тут выяснилось, что в научном мире уже давно растет интерес к манипуляциям с генетическими секвенциями зародышевой линии ДНК.

«В настоящее время, … несмотря на шумиху вокруг работы Хе Дзяньки по вмешательству в процессы гестации и рождению генно-модифицированных близнецов в Китае, руководство Второго Международного саммита по вопросам редактирования зародышевой линии имплицитно согласилось с этим специалистом в том, что вторжение в зародышевую линию, в принципе, допустимо, – если оно осуществляется [по медицинским показаниям] с соблюдением всех мер предосторожности и безопасности для человека. Действительности, комиссия Национальной медицинской академии, Национальной академии наук США, а также Королевское научное общество Великобритании недавно разработали "трансляционный путь для ответственного применения" методов редактирования зародышевой линии».
Джон Г. Эванс
Термин «генное редактирование» фактически обобщает несколько существующих технологий, позволяющих ученым «переписывать» сегменты в генетическом коде различных организмов. Секвенции в ДНК могут быть удалены, дополнены или модифицированы практически в любом участке генома. От прочих технологий метод CRISPR-Cas9 отличается более высокой скоростью, эффективностью и простотой реализации. Именно CRISPR биологи все чаще называют «новым горизонтом открывающихся возможностей».
Но метод CRISPR только кажется высокотехнологичным современным изобретением. На самом деле он появился не в лаборатории, – это адаптация естественной системы редактирования генома, обнаруженной у бактерий и архей. Эти микроорганизмы способны буквально «красть» ничтожно малые последовательности генетического материала у вирусов, которые их инфицируют, и затем использовать эти секвенции для создания новых сегментов ДНК, которые получили название CRISPR-массивы. Это позволяет бактериям и археям эффективно отвечать на будущие вторжения вирусов, «запоминая и узнавая», контратакуя и уничтожая их. Во многих отношениях этот механизм напоминает гораздо более сложную «генную память» В- и Т-клеток иммунной системы млекопитающих.
Как известно, за совместную работу по совершенствованию метода CRISPR-Cas9 Дженнифер Дудна (Калифорнийский университет в Беркли, США) и Эммануэль Шарпантье (Институт Пастера, Париж, Франция) в 2020 году получили Нобелевскую премию в области химии. Первоначально технология была разработана испанским биологом Фрэнсисом Мохика, профессором Университета Аликанте, и названа его именем, однако он не был включен в число Нобелевских лауреатов.
Дж. Г. Эванс тем временем подчеркивает в своей публикации, что в начале 2010-х годов, когда была осознана вся мощь CRISPR как инструмента лабораторного редактирования, «зародышевая линия все еще казалась навеки неприкосновенной для модификаций. И лишь после того, как были преданы гласности первые лабораторные эксперименты по редактированию зародышевой линии человека, все больше влиятельных научных групп стали выступать с заявлениями о недопустимости нарушения барьера между "соматическим" и "зародышевым" редактированием, – ссылаясь на незыблемую ценность принципа непричинения вреда».
«Инструменты генетического редактирования становятся все более мощными, и нам давно пора сосредоточиться на вопросах о том, ЗАЧЕМ мы их используем, – учитывая непреходящие общечеловеческие ценности. В противном случае мы рискуем скатиться к очень опасному принципу "делай всё, что может быть сделано!"».
Джон Г. Эванс
Используемая литература
По материалам сайта Medical Xpress